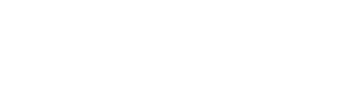Разрешение международных споров: современные тенденции и будущее
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
28 августа 2025 года в рамках Singapore Convention Week 2025 Центр международных и сравнительно-правовых исследований (ЦМСПИ) провёл панельную дискуссию «Разрешение международных споров: современные тенденции и будущее».
Информационным партнёром мероприятия выступила Азиатская академия международного права.
Дискуссия была посвящена анализу существующих и новых тенденций, включая возможные реформы, в различных формах разрешения международных споров — межгосударственных, инвестиционных и коммерческих.
В числе участников панели были признанные специалисты в области международного права и разрешения споров:
- Роман Колодкин — судья Международного трибунала по морскому праву, консультант в сфере международного публичного права в ЦМСПИ (участвовал в личном качестве);
- Алина Мирон — профессор Университета Анже (Франция), партнёр в юридической фирме FAR Avocats;
- Чин Хэнг Онг — старший директор и старший государственный советник Департамента международных дел Генеральной прокуратуры Сингапура;
- Фрэнсис Ксавье — региональный руководитель группы по разрешению споров в Rajah & Tann Singapore LLP;
- Сияшуэ Джи — старший юрисконсульт, руководитель отдела переговоров и исследований в Подготовительном офисе Международной организации по медиации (IOMed).
Модерировал дискуссию Егор Фёдоров, руководитель исследовательских проектов ЦМСПИ (морское право). С приветственным словом выступила Юлия Муллина, генеральный директор ЦМСПИ.
В мероприятии приняли участие представители государственных органов, международных юридических фирм, арбитры и медиаторы, представители организаций по разрешению споров, а также научных учреждений.
Представляя тему панельной дискуссии, Егор Фёдоров отметил, что разрешение споров является одной из ключевых функций права, и можно проследить, как – особенно в течение последнего столетия – развивалась система разрешения споров в межгосударственной, инвестиционной и коммерческой сферах. Одни формы разрешения споров отвечали потребностям и вызовам времени в большей степени, другие — в меньшей. Это привело к тому, что отдельные механизмы и органы перестали существовать, но при этом появились и успешно развиваются новые международные суды и трибуналы.
Переходя к обсуждению разрешения межгосударственных споров, модератор отметил рост количества дел, рассматриваемых в универсальных и региональных судах и трибуналах, а также наблюдаемую с 1980–1990-х годов тенденцию к увеличению роли международного правосудия в международных отношениях. Тем не менее в последнее время в адрес международных органов по разрешению споров — универсальных и региональных, постоянно действующих и ad hoc, с общей и специальной компетенцией — высказывается всё больше критики.
В данном контексте, говоря о текущих трендах и вызовах в разрешении межгосударственных споров, Роман Колодкин обратил внимание аудитории на в целом растущий интерес государств из разных регионов мира к использованию международных механизмов разрешения споров, порой даже в рамках и в качестве средства «правовой войны» (lawfare). В то же время он также отметил различия в подходах государств к международным судам и трибуналам: одни возлагают на них определённые надежды, тогда как другие демонстрируют недоверие к ним. В этой связи судья Колодкин подчеркнул центральную роль согласия государств в международном праве, в том числе для целей определения юрисдикции международных судов, и отметил растущий интерес государств к продвижению и использованию альтернативных способов разрешения споров. Завершая своё выступление, судья Колодкин сослался на недавнее консультативное заключение Международного Суда по обязательствам государств в связи с изменением климата. В нём указано, что международное право играет «важную, но в конечном счёте ограниченную роль» в решении проблемы изменения климата. В связи с этим судья Колодкин задал риторический вопрос: может быть, аналогичная — важная, но в конечном счёте ограниченная — роль присуща также международным судам и трибуналам в разрешении межгосударственных споров?
В продолжение обсуждения тенденций и вызовов в разрешении межгосударственных споров Алина Мирон обратила внимание на взаимосвязь между обращением государств к международным судам и изменяющимся характером международных отношений в эпоху многосторонности (мультилатерализма), которая, по её словам, в настоящий момент переживает определённый кризис. Говоря о роли международных судов, профессор Мирон отметила переход от традиционно двухстороннего разрешения споров к более широкому участию в международном правосудии, что свидетельствует о сохраняющейся надежде на то, что принцип верховенства права на международном уровне по-прежнему может быть обеспечен судами. Однако суды должны действовать в пределах своей юрисдикции, что среди прочего означает необходимость устанавливать наличие согласия государств на такую юрисдикцию. При этом она выразила мнение, что в целом международные суды смогли сохранить очень строгий подход к анализу вопроса о наличии согласия государств. В подтверждение этой мысли профессор Мирон привела три примера из практики международных судов, связанных с (1) защитой интересов международного сообщества в целом (erga omnes), (2) вмешательством третьих государств и (3) консультативными заключениями.
Отвечая на дополнительный вопрос модератора о том, можно ли рассматривать международные суды и трибуналы как некий «маяк надежды» на фоне не всегда эффективной многосторонности (мультилатерализма), Роман Колодкин и Алина Мирон вновь подчеркнули важную — хотя и ограниченную — роль международных судов, указав, что они не могут заменить собой государства как «создателей» международного права.
Переходя к теме трендов и вызовов в разрешении споров между инвесторами и государствами (УСИГ), Егор Фёдоров отметил, что правовые рамки этой системы активно развивались с 1960-х годов, однако в последние годы она находится под пристальным вниманием международного сообщества. В частности, он сослался на продолжающиеся дискуссии о её реформе в рамках Рабочей группы III Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).
В связи с этим Чин Хэнг Онг представил обзор статистики и тенденций в сфере УСИГ за последние годы, в частности в отношении количества дел, исковых сумм, соотношения выигранных и проигранных дел, наибольшей представленности по национальностям среди инвесторов-истцов и государств-ответчиков, а также стоимости и продолжительности разбирательств. Далее господин Онг перешёл к анализу критики, высказываемой в адрес системы УСИГ. Среди прочего он отметил недостаточную согласованность и предсказуемость арбитражных решений, обеспокоенность в отношении независимости и беспристрастности арбитров, а также высокие издержки и длительность процедур. В данном контексте он также подробно рассказал о текущих обсуждениях реформы УСИГ в рамках Рабочей группы III ЮНСИТРАЛ, подсветив поддерживаемые различными государствами и группами варианты реформ, а также различные процедурные и сквозные вопросы, возможные модели создания постоянного многостороннего механизма(-ов) и многосторонний инструмент по реформированию УСИГ.
Продолжая обсуждение разрешения споров между инвесторами и государствами, Фрэнсис Ксавье выразил мнение, что с практической точки зрения наибольшую проблему системы УСИГ представляет высокая степень неопределённости, которую она порождает. В этой связи он отметил, что необходимо выработать согласованный подход к ключевым стандартам международного инвестиционного права. Как он отметил, это мог бы быть некий «Свод лучших практик» (“Best Practices Guide”) по толкованию общих стандартов. В подтверждение такой необходимости он сослался на недавнюю практику Австралии, Индии и Индонезии, которые вышли из ранее заключённых двусторонних инвестиционных соглашений (BITs) и стали заключать новые договоры на более ограниченных и строгих условиях.
Признавая отмеченную спикерами критику и текущие процессы реформы УСИГ, Егор Фёдоров поставил перед участниками вопрос о том, не приведёт ли всё большее сходство инвестиционного и коммерческого арбитража с национальными судами — в частности, усиливающийся контроль со стороны государств над УСИГ, институционализация и формализация арбитража, изменения подхода к вопросам конфиденциальности и т. д. — к тому, что бизнес в перспективе откажется от использования таких механизмов разрешения споров. Господин Онг согласился с этими наблюдениями о текущих тенденциях и обратил внимание на необходимость обеспечения баланса между интересами сторон в процессе разрешения споров. Подчеркнув значимость сохранения традиционных механизмов инвестиционного и коммерческого арбитража, господин Ксавье отметил роль, которую может играть Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) благодаря своим «специально разработанным» правилам для споров между инвесторами и государствами.
Продолжая дискуссию, модератор перешёл к вопросу о роли медиации в разрешении международных споров с участием различных акторов. Он отметил существование Сингапурской конвенции о медиации, а также недавно принятую Конвенцию о создании Международной организации по медиации (Конвенция IOMed), поставив вопрос о том, каким образом соотносятся данные два международных инструмента.
Сияшуэ Джи указала, что IOMed является первой договорной межправительственной организацией, чей мандат полностью посвящён вопросам обеспечения мирного разрешения международных споров посредством медиации. Идея её создания возникла в ответ на растущий спрос и существующий институциональный пробел в этой сфере. Госпожа Джи отметила, что Сингапурская конвенция о медиации и Конвенция IOMed взаимно дополняют друг друга: первая обеспечивает правовые основания для трансграничного приведения в исполнение международных мировых соглашений, достигнутых в результате медиации, тогда как вторая направлена на повышение доступности и качества самой медиации, предлагая для этого соответствующую институциональную платформу. Таким образом, по её мнению, эти два инструмента в совокупности должны способствовать тому, чтобы медиация становилась очевидным выбором для разрешения споров различными акторами. Затем госпожа Джи перешла к обсуждению преимуществ IOMed как институциональной платформы, отметив, в частности: (1) сильную политическую приверженность идее разрешения международных споров путём медиации, (2) договорную природу организации, способствующую гармонизации международного регулирования по вопросам медиации, (3) авторитет и институциональный потенциал IOMed, (4) а также возможность сотрудничества между различными структурами в области медиации, в том числе в части обмена опытом и лучшими практиками. В завершение своего выступления госпожа Джи перечислила ключевые особенности Конвенции IOMed и обозначила последующие шаги на пути к созданию IOMed.
Отмечая растущий интерес к альтернативным способам разрешения споров, включая медиацию, Егор Фёдоров обратил внимание на всё большую востребованность в части прозрачности межгосударственных и инвестиционных споров и возрастающий в этой связи уровень контроля со стороны общества над соответствующими процессами. В связи с этим он поставил вопрос о том, не столкнётся ли медиация, учитывая её конфиденциальный характер, с новой волной критики и давления со стороны общественности за отсутствие прозрачности. В ответ Сияшуэ Джи подтвердила, что конфиденциальность остаётся ключевой ценностью медиации. При этом она признала, что необходимо взвешенно подходить к прозрачности, особенно в контексте разрешения споров между инвесторами и государствами. Для решения этого вопроса госпожа Джи представила существующие практики и обозначила возможные меры, которые могли бы быть приняты, включая: (1) тщательно продуманные исключения из принципа конфиденциальности; (2) обеспечение достаточной гибкости и дискреционных полномочий для государств при участии в медиации, что позволит им принимать меры, наилучшим образом соответствующие их потребностям и требованиям внутреннего права в части прозрачности и публичного контроля; (3) институциональную поддержку медиации международных споров, в частности роль IOMed как надёжной платформы для проведения медиации и обмена лучшими практиками.
За выступлениями участников панели и дополнительными вопросами модератора последовала сессия вопросов и ответов.
В ходе обсуждения один из участников аудитории указал на ещё одну проблему, за которую существующая система УСИГ подвергается критике, — вопрос оценки убытков, включая методы оценки, применяемые трибуналами, и необоснованно высокие суммы компенсаций, налагаемые на государства. В этой связи он призвал Рабочую группу III ЮНСИТРАЛ уделить внимание этой проблеме и выработать соответствующие рекомендации. В ответ Чин Хенг Онг обратил внимание аудитории на то, что мандат Рабочей группы III ЮНСИТРАЛ касается процедурной реформы системы УСИГ. Однако вопрос оценки убытков находится в «серой зоне», и среди членов Рабочей группы нет согласия о том, является ли он процедурным или материально-правовым по своей природе, а следовательно, подпадает ли он под мандат группы или выходит за его пределы.
Ещё одно замечание из зала было посвящено увеличению объёма дел, рассматриваемых Международным Судом, и, как следствие, удлинению сроков рассмотрения дел в Судe. Отвечая на этот комментарий, Алина Мирон признала существование такой проблемы. По её мнению, причины частично кроются в ограниченных доступных Суду человеческих и финансовых ресурсах, а также в росте числа ходатайств о принятии временных мер и заявлений о вступлении в дело третьих государств — процедур, которые могут быть особенно обременительными для Суда. Она согласилась, что, обсуждение методов работы Международного Суда действительно необходимо, и, например, одним из способов оптимизации рассмотрения ходатайств о принятии временных мер могло бы стать создание специальной палаты Суда. Завершая своё выступление, профессор Мирон отметила, что возникшая проблема связана не только с самим Судом — государства нередко сами осознанно затягивают рассмотрение дел.
Кроме того, один из участников аудитории поднял вопрос о различных ограничениях компетенции, предусмотренных Конвенцией IOMed, и поинтересовался, как такие ограничения будут реализовываться на практике. В ответ Сияшуэ Джи пояснила, что существующие ограничения были задуманы таким образом, чтобы предоставить государствам, присоединяющимся к Конвенции IOMed, гибкость в исключении отдельных категорий споров из возможного их урегулирования в порядке медиации в рамках данной организации. Она также отметила, что ничто в Конвенции IOMed не препятствует государствам отказаться от такого заявления об исключении, если они захотят передать конкретный спор на урегулирование в порядке медиации в IOMed.
Ещё один участник дискуссии пригласил спикеров высказать своё мнение по вопросу об уместности или корректности участия одного и того же представителя (советника) в различных формах международного разрешения споров — межгосударственных, инвестиционных и коммерческих. В целом, участники панели сочли это скорее полезным, чем вредным для процесса, однако подчеркнули, что представитель (советник) должен учитывать особенности форума, в рамках которого он представляет соответствующую сторону.
В продолжение вопроса о представителях (советниках), модератор также спросил, не стал ли вопрос «А судьи кто?» более актуальным в последнее время для различных механизмов разрешения споров. В ответ, говоря о постоянно действующих международных судах, Роман Колодкин отметил, что он считает существующие критерии формирования состава судей достаточными, поскольку они были тщательно выработаны государствами в рамках многосторонних инструментов. Он также задал риторический вопрос, должны ли палаты, формируемые в рамках постоянных международных судов, соответствовать тем же критериям, что и весь состав суда (таким как представительство основных правовых систем мира и справедливое географическое распределение — ЦМСПИ).
Подводя итоги сессии, Егор Фёдоров отметил, что затронутые участниками тенденции и вызовы свидетельствуют о продолжающемся процессе переосмысления подходов к международному разрешению споров, и выразил надежду, что состоявшаяся дискуссия послужит стимулом для дальнейшего диалога и вдумчивого анализа возможных направлений развития в этой области.